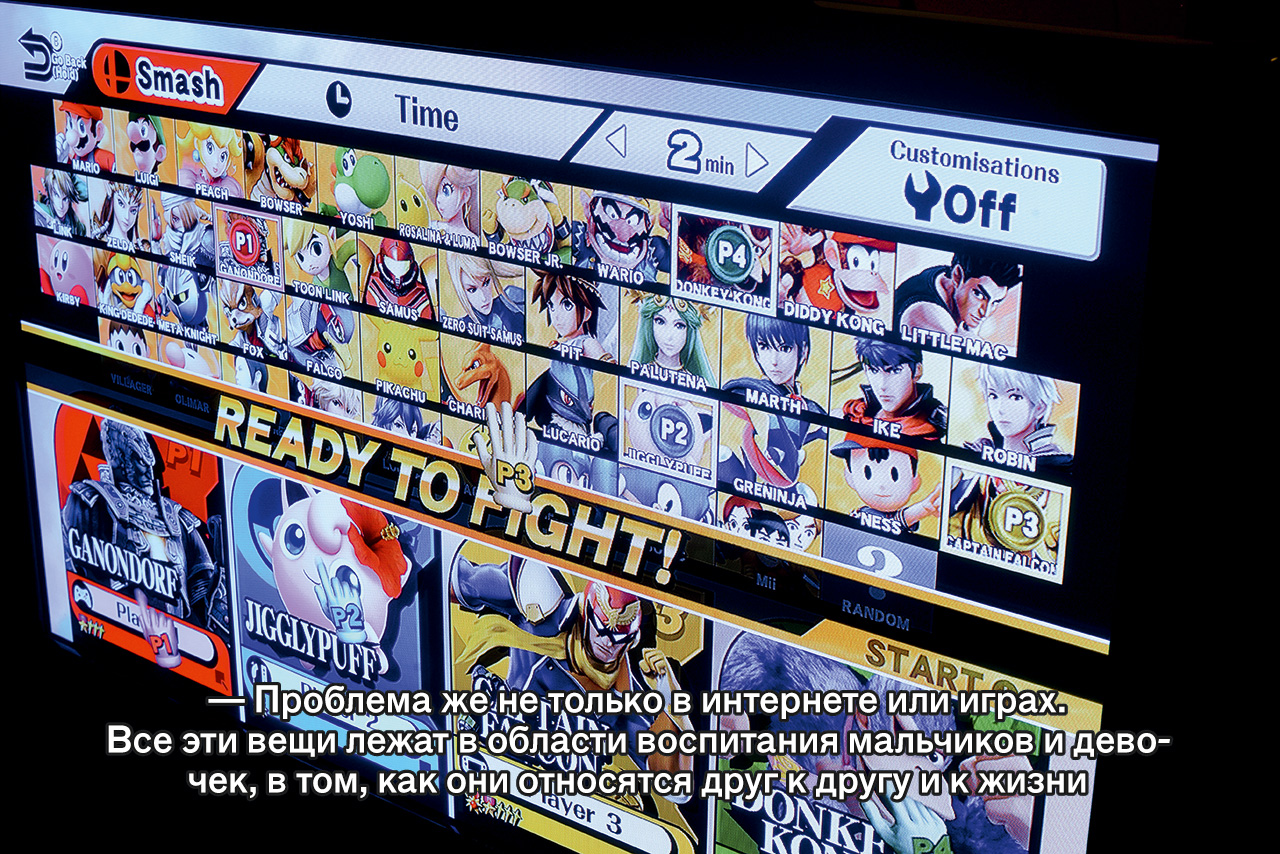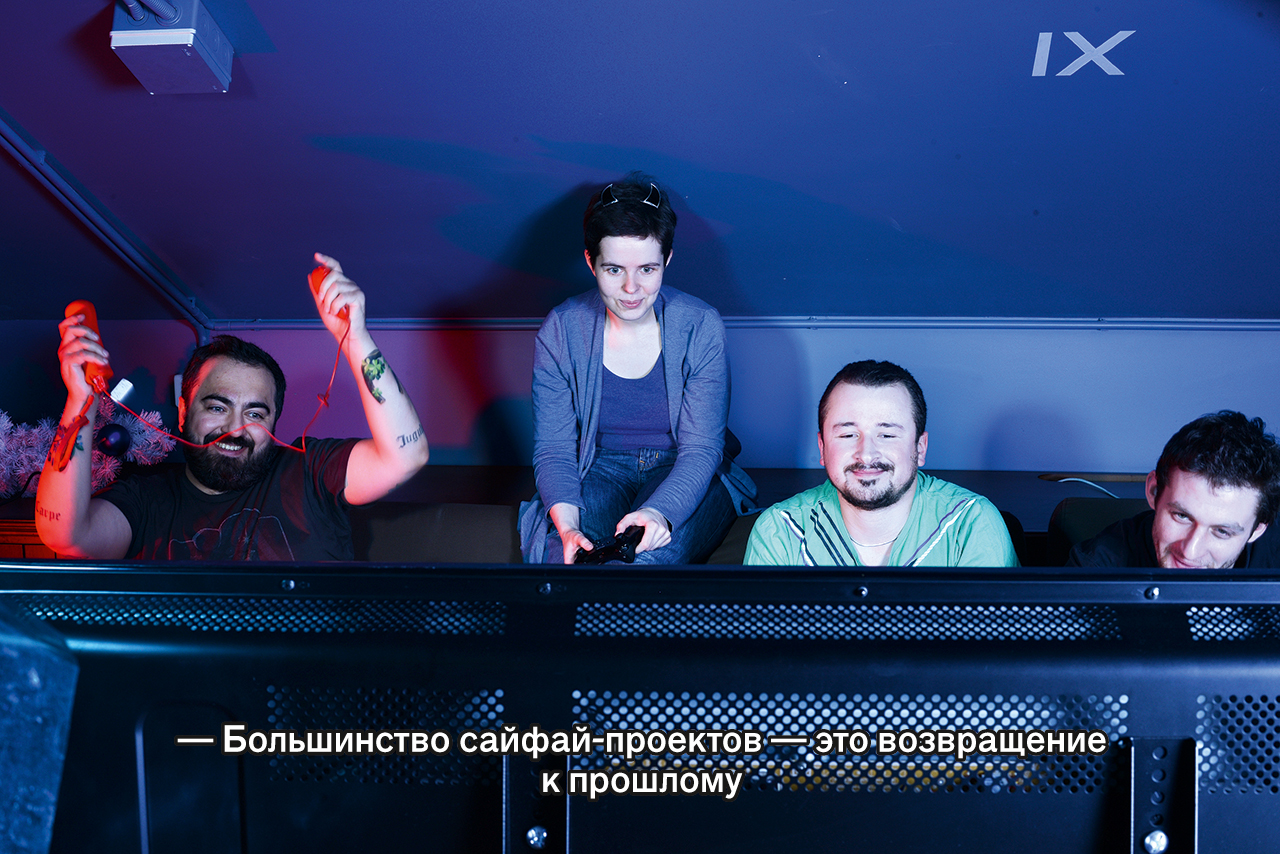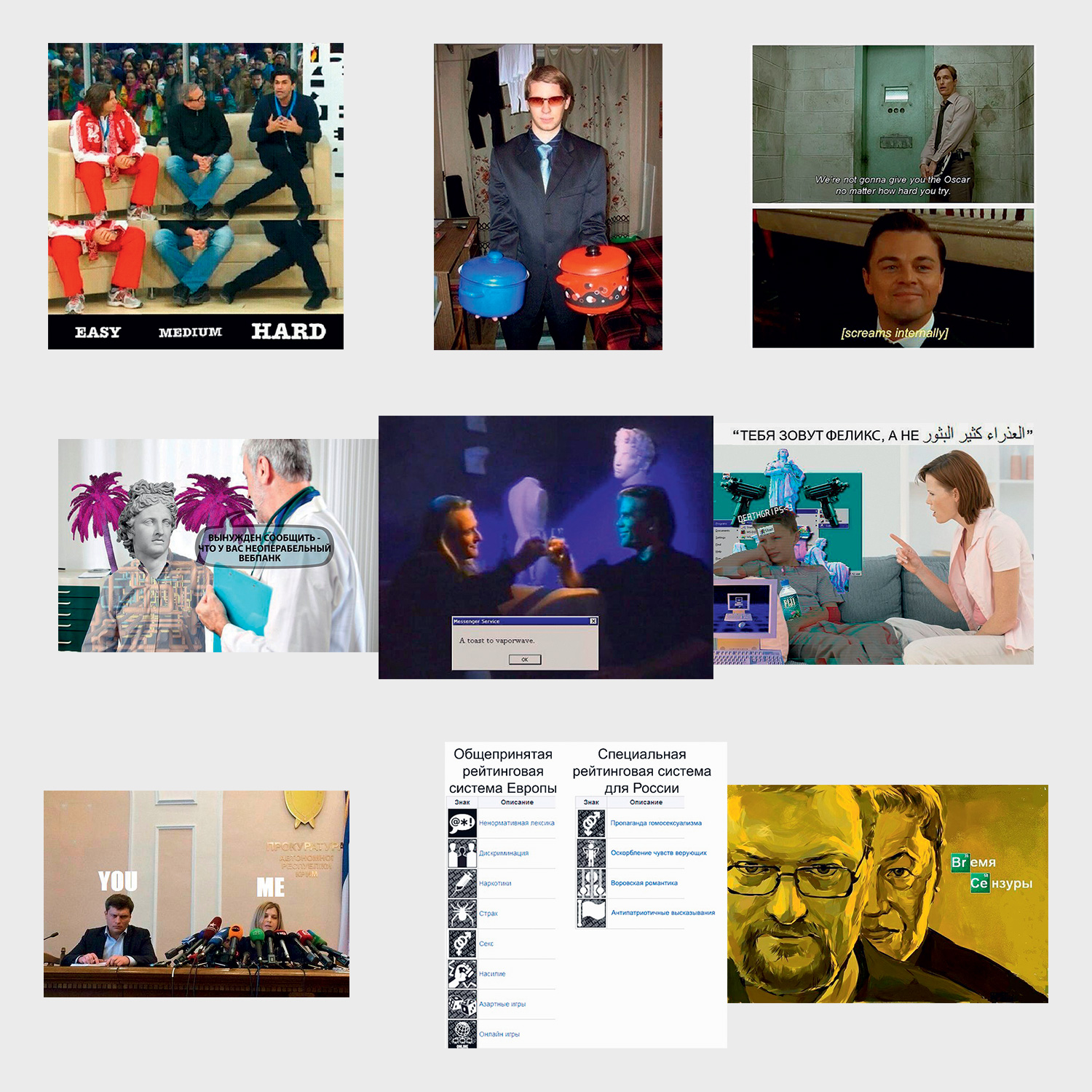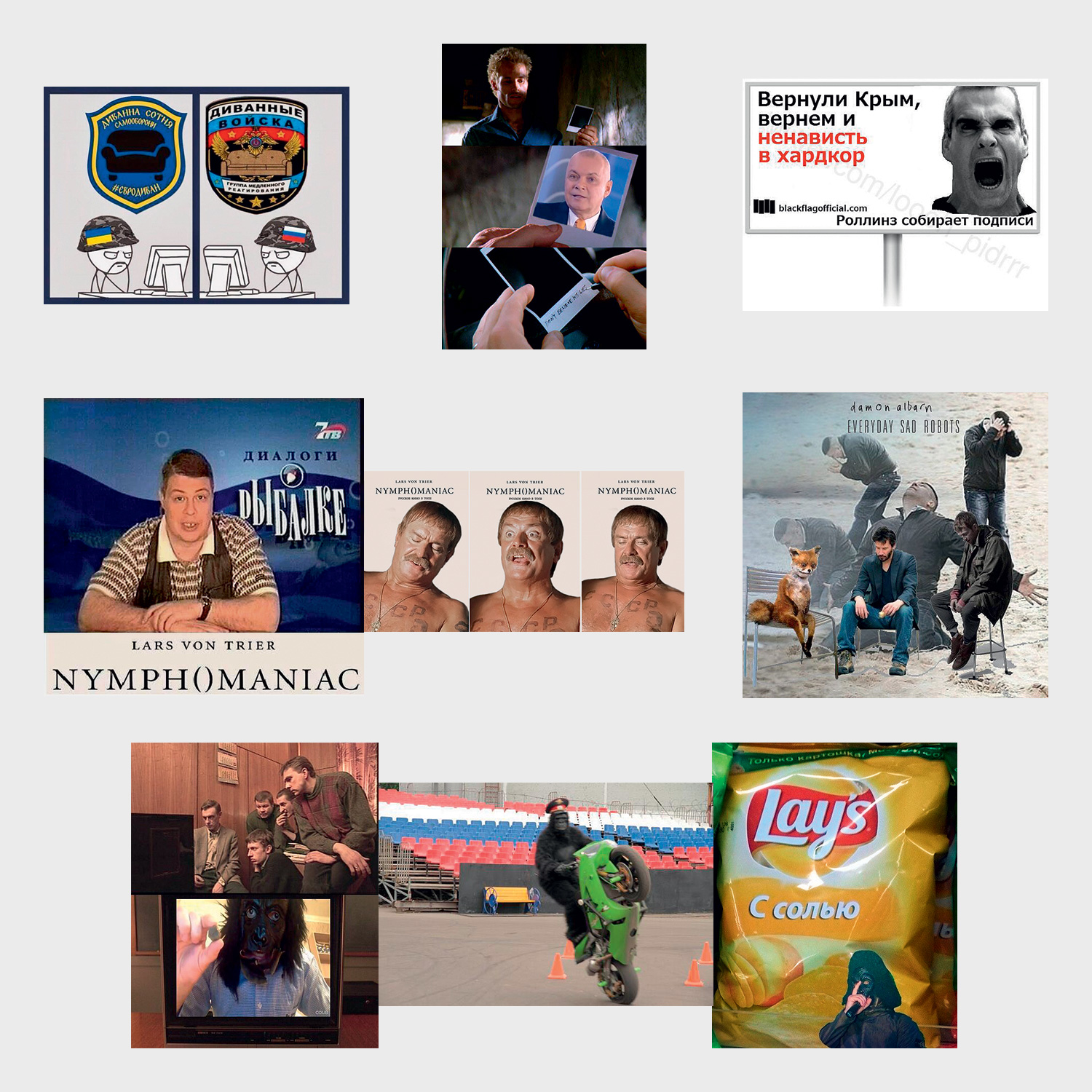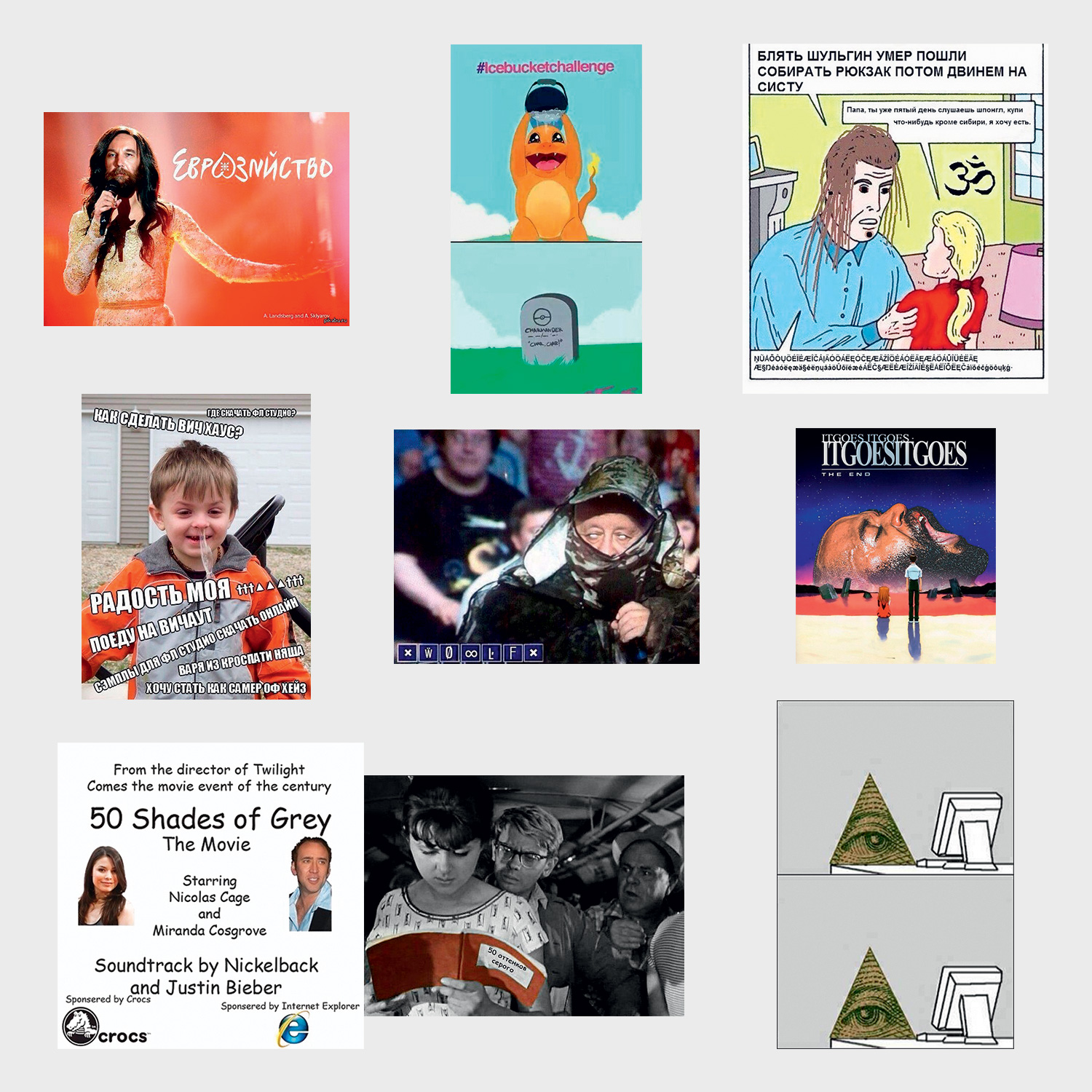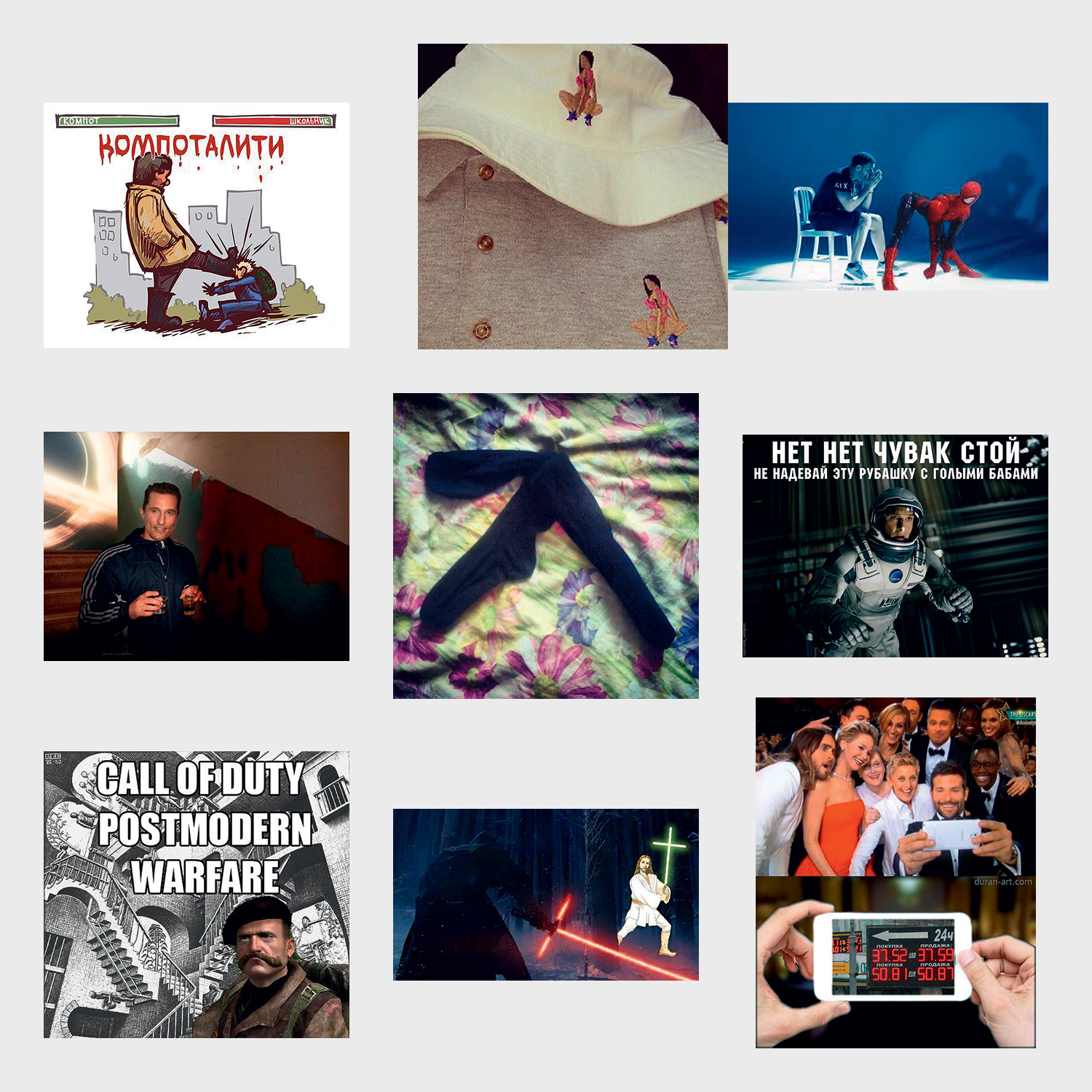Застольные беседы: Праздники
Главная черта русского застолья в Новый год — его традиционность. Оливье, мандарины, шампанское, новогоднее обращение президента и обязательный «Голубой огонек» — без этих вещей трудно представить себе настоящий праздник. И этот ритуал никак не меняется.

Участники застолья
-
 Алена Долецкая главный редактор Interview
Алена Долецкая главный редактор Interview -
 Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград»
Сергей Шнуров лидер группы «Ленинград» -
 Павел Вардишвили светский обозреватель
Павел Вардишвили светский обозреватель
Алена Долецкая: Можно мне водочки. Потому что я не могу пить ничего другого, извини.
Сергей Шнуров: Я выпью полтинник.
Долецкая: Полтинник — это пол-литра?
Шнуров: Нет, 50 грамм.
Долецкая: А если больше? То ты не сможешь ничего потом делать?
Шнуров: Нет, потом я смогу все.
Долецкая: Вот этой части я хотела бы, между прочим, достичь. Чтобы было все.
Это, кстати, важный момент. Про «могу все». Это же такое русское безрассудство. Мне вообще кажется, что в русском празднике обязательно должна быть заложена какая-то драма. Если нет драмы, то это не праздник. Вспоминать нечего.
Шнуров: Жанр русского праздника — это трагикомедия, не драма в чистом виде.
Откуда вообще это идет? Сложная русская душа?
Долецкая: В России из-за климата, про это еще Баратынский писал, все происходит дома. И поэтому обрастает невероятной драмой. За окном слякоть, грязь, проехать невозможно. Значит, что делать? Сидим. И вот тут-то и начинается история.
Шнуров: Кто-то должен быть виноват.
Долецкая: Обязательно кто-то виноват. Кто-то козел, кто-то, наоборот, ангел, двоюродный брат — пьянь, его надо лечить, спасать. Тут и спасительница появляется обязательно. Но он любит другую. Трагедия. И пошло-поехало.
У вас нет ощущения, что русский праздник должен готовиться долго? К Новому году числа 29-го все начинают готовиться.
Долецкая: Ну Новый год — это особая история. Во-первых, ты долго готовишь, все закончил, пирожки допек к девяти вечера. В десять с детьми отметили, дети — на … [на фиг]. И в одиннадцать взрослые начинают по полной программе провожать. К двенадцати градус уже повысился достаточно, для того чтобы начать обсуждать сущностные вещи. Если у людей есть телевизор — это катастрофа, потому что они начинают обсуждать выступающего президента и Аллу Борисовну Пугачеву. У меня никогда в жизни не было телевизора дома.
А как же без курантов? Обращения президента-то?
Долецкая: Отлично! Я телевизор увидела, когда вышла замуж в первый раз, в 17 лет. И отлично без него до этого жила.
На самом деле я вас понимаю. У меня полжизни телевизора не было вообще. Но вот на Новый год я приезжала к родителям, и он действовал на меня магически.
Долецкая: Но это же убивает общение. Но вообще Новый год — это нарушение всех правил. Никто на следующий день не идет на работу. И что это значит? Что на следующий день будут знаменитые доедалки. Вечно трезвая хозяйка кроет по новой и освежает стол. И вот тут происходит вообще невероятная вещь, самые вкусные разговоры.
Шнуров: Пить нужно 3 дня, да.
Павел Вардишвили: И телевизор мешает так гулять.
Знаете, с телевизором странная штука. Молодые люди раньше были страшно против традиционного Нового года: оливье, шампанское, «Голубой огонек». Но прошло время, и их, точнее нас, к этому потянуло. Теперь все снова готовят салаты, а в Таиланде скучают по оливье. И часа в три ночи кажется, что лучше русской попсы ничего придумать нельзя.
Шнуров: Праздник — это ритуал. И молодежь следует этому ритуалу. Кавычки и ирония тут большого смысла не несут. Играя в это, ты все равно соблюдаешь ритуал. И все, точка.
Долецкая: Сережа прав, знаете почему? Из-за нашей азиатской части нам очень важны ритуалы. Потому что это единственное, что держит нас в псевдостабильности. Оливье же никогда не разрушится? Никогда. Новый год, доедалки — все это не разрушится. Значит, живем. Пасха, ну это святое, ребята.

Причем даже если ты не религиозен.
Долецкая: Абсолютно. Люди, которые «Отче наш» не знают до конца, сидят и кисточками соболиными что-то вырисовывают, приклеивают травку, красят. В одном из последних эссе Татьяны Никитичны Толстой было как раз о том, что люди сейчас, к сожалению, и на крестный ход, и на политические митинги идут безо всякой цели, не понимая, что они там делают вообще. Это пронзительно грустно.
Шнуров: Это не грустно. Просто Москва уже давно стремится стать Бомбеем, а индусы ходят на все праздники.
Долецкая: Вот так ты думаешь? Хорошо. Вне зависимости от своих религиозных соображений?
Шнуров: Москва же стремится к Бомбею уже давно, это я вам как приезжий говорю. Просто посмотрите на социальную прорву: ты можешь видеть «майбах», а рядом нищего, мента — да все что угодно. Весь мир в одном квадратном метре.
Долецкая: В Бомбее намного больше радости.
А у нас любимая пронзительная тоска и грусть экзистенциальная во всем.
Шнуров: Так недаром же это северный Бомбей, нужно скидку делать.
Вардишвили: Как в обращении президента: надо по закону, но есть обстоятельства.
Шнуров: Хорошая фраза, кстати.
Долецкая: А там сегодня что-то расслабились. Алкоголь пообещали продавать позже.
Я видела только заголовок, но он был гениальный. В Московской области разрешат продавать алкоголь после 21.00 ради стариков и детей.
Шнуров: Мне кажется, очень правильно придумано с алкоголем. Понятно же, что времена тяжелые наступают, значит, до этого нужно было сделать какое-то искусственное зажатие гаек, алкоголь запретить. Курение. Представляете, сейчас разрешат курить? Да это же будет самое … [офигенное] правительство. А если бухло всю ночь продавать? Да все. А если будет совсем … [капец], я думаю, и гей-парад разрешат.
И сделают его традиционным русским праздником.
Долецкая: Предлагаю День святого Валентина.
Шнуров: А я предлагаю День десантника.
Долецкая: Это тоже хорошо. Может, два дня?
Шнуров: Да! Чтобы доедалки были.
А вот вам как кажется: драма русского праздника связана с алкоголем? Есть ведь эффект первой разбитой стопки. Момент, когда все всё отпускают. И идут вразнос.
Шнуров: Ты путаешь драму и … [безумие]. Русский … [конец] не обязательно драматичен, а русская драма не обязательно заканчивается … [концом]. Отношение к жизни как к трагедии присуще русскому человеку. Я никогда не забуду замечательный диалог, который происходил между двумя нашими музыкантами. Они были в говно. Сидели в соседней гримерке, потому что их выгнали из общей, так как невозможно было уже слушать. Фраза звучала так: «Ты пойми, … [зашибись] — это не всегда значит … [зашибись]». У нас общество очень нормированное, очень много стандартов поведения, очень много приличного. И в какой-то момент вся эта наша неприличная стихия человека должна вырываться. И прорывается она вот таким образом.
В Европе тоже много норм, но там праздники не заканчиваются поеданием стаканов.
Шнуров: В Европе у людей постепенно изымают все то спонтанное, что вообще в принципе возможно. Их … [нагибают] сильно, сильнее, чем нас. И они все ходят по стеночке. А как напиваются японцы?! В пятницу Япония не сравнится ни с какой Россией. Они не то что жрут стаканы, они ползут. Вся Япония в пятницу ночью ползет домой.
В Японии пьяного нельзя осуждать. Видишь пьяного — помоги.
Долецкая: А у нас? Пьяного всегда поднимут. До дома доведут.
Больного не поднимут, а пьяного поднимут.
Шнуров: Потому что больного Бог не любит. А пьяного очень.
Невозможно же представить себе, что ты пришел на русское застолье и отказался пить. «Я тут с вами просто посижу». Ты тогда — предатель.
Шнуров: Потому что ты сразу становишься черным ящиком, который, сука, все пишет. Этот самолет падает, а ты гарантированно выживешь, и тебя гарантированно прочтут.

Потому что лучшая вечеринка какая? На утро которой никто ничего не помнит. И тут вдруг появляется какой-то добрый товарищ, который говорит: «Как, ты ничего не помнишь? Ну так я сейчас тебе все расскажу».
Долецкая: И все, он сука навсегда. Конец. Его никогда больше никуда не пригласят.
Шнуров: Так просто нельзя поступать.
Ведь даже вечеринка журнала Interview или «Афиши» будет провальной, если никто не поваляется на полу.
Долецкая: Это тоска. Это значит — ничего не было. Ничего не случилось. У нас, например, чудесные люди, не буду называть фамилии, просто директора музеев, догуливались до такой ситуации, что их находили…
Вардишвили: В 6 утра запертыми в туалете и непомнящими себя. А заместитель главного редактора немецкого Interview закончил ночь в гей-клубе. Притом что он абсолютный натурал, у него роскошная жена. Мы расстались в пять утра. Он был счастлив.
Шнуров: Потому праздник — это же приключение. Выход за рамки.
Я когда-то жила в Петербурге и работала на «5 канале», вот когда я вспоминаю те корпоративы…
Долецкая: Извини, что я тебя перебиваю, но могу сказать, что, по моему мнению, корпоративы — это абсолютное извращение. Каждый день по 8–9 часов ты смотришь на эти рожи, ругаешься с ними, любишь их, колбасой подкармливаешь. И вдруг зачем-то в конце года нужно изобразить совместное выпивание вне офиса.
Но вот представьте, что это офис огромной компании. И все сидят в крошечных серых клетушках. Каждый день. Год за годом. И тогда позвать группу «Ленинград», оторваться по полной, сорвать рубашку, поорать матом — это то освобождение, которого ты ждешь целый год. Это же очистительный ритуал. Обнуление.
Долецкая: Гулялово настоящее должно быть в тотальную радость, когда действительно если уж кто-то грохнулся в этот фонтан посредине гостиницы «Метрополь» — он так грохнулся, что официанты не знали, как выгребать его оттуда. А после корпоративов всегда чудовищная неловкость.
Шнуров: Мне кажется, что у корпоратива есть очень важная функция. Любая организация, состоящая из людей, живет сплетнями. И корпоратив — это повод для сплетен: кто, с кем, почему. Это главное событие года. В реальной жизни же так мало событий. Ну, может быть, посередине года шофер трахнет уборщицу — вот счастье будет для…
Долецкая: Старшего бухгалтера!
Шнуров: Это вообще гениально! Корпоратив создает повод.
Долецкая: Ты прав, да. Но мне интереснее то, о чем ты говорил чуть раньше, — как случаются эти взрывы, отполированные алкоголем, вот этот магический … [беспредел], когда на все плевать: в снег голым, с ним, с ней. Это замечательно. Я очень это люблю. Мне интересно, с чем связано, что мы гуляем именно так.
Да, в этом очень много романтики. Когда в пять утра ты вдруг обнаруживаешь, что твой друг дал денег водителю снегоуборочной машины и вы в ней несетесь по площади. Это счастье!
Долецкая: Я как-то обнаружила себя мерзнущей, но счастливой с совершенно замечательной особью мужского пола абсолютно голой, в сугробе. Это было прекрасно. В этом совсем не было…
Пошлости?
Долецкая: Да! Никакой пошлости.
Шнуров: Вот если бы ты сделала то же самое трезвая — это было бы очень пошло.
А как это работает? Разве алкоголь нивелирует пошлость?
Шнуров: Нет, бывают пошлые пьянки. Отвратительно пошлые пьянки. На красивых пьянках случается главное в твоей жизни. Остальное … [фигня]. Ну что по трезвости? Была на работе, вернулась с работы. Вот позвонил Жора, написала пост в фейсбуке. Тьфу.

Долецкая: Тоска!
Вардишвили: Все самое хорошее случается тогда, когда ты к этому не готовишься. Я не знаю, с чем это связано, но главное — это спонтанность.
Шнуров: Неправда! К пьянке ты готовишься, пьянки ты ждешь. Неделю можешь ждать. У меня была совершенно … [офигенная] пьянка. Была корпоративка как раз. Мы отыграли и стали с моим приятелем пить в гостинице. Включили канал «Ностальгия», а там показывали гэдээровский фестиваль «Песня в борьбе за мир». Это в городе Донецке было. У меня в голове не сошлось — как, сука, можно бороться за мир? Еще и песней. И мы мрачно набухались под эту песню, борющуюся за мир. А наутро нам нужно было лететь домой. Мы в говно, гоним в аэропорт. Еще два часа до рейса в Москву, потом пересадка в Петербург, дома делать … [нечего], смотрим на табло. А ближайший рейс — в Тбилиси! Я говорю: «Ты в Тбилиси был?» — «Не был». Пам! И мы летим в Тбилиси. И следующие сутки мы вообще не помним … [ничего]. Единственное воспоминание, которое всплывает в памяти, — как меня грузинский приятель отговаривает покупать шкуру тигра: «Тебе это не нужно». Витязь в тигровой шкуре. Я вот сейчас понял, сформулировал в голове, что у русского человека есть совместная память. Но есть и совместное беспамятство. И это самое крутое, что у нас есть. Русское беспамятство. Русское генетическое беспамятство. Вот.
Долецкая: Я вот тут вспомнила великого Михаила Бахтина. Он хотя и писал про карнавал, но раскрыл суть русского застолья. Русскому человеку совершенно не обязательно надевать маски, как это делают в Венеции, — зачем? Это все лишнее, понты. У нас выпили по две — и уже пошел карнавал.
Шнуров: У большинства из нас такие лица, что маски нам действительно не нужны.
Долецкая: Я не знаю, как для вас, но для меня стоячие вечеринки с тарталетками — это просто что-то омерзительное. Во-первых, стоя очень неудобно глотать, во-вторых — все вокруг обдрипываются крошками слоеного теста. Никого не слышно. Разговаривать невозможно. А за столом в состоянии тотального алкогольного опьянения люди могут докатиться до обсуждения Гегеля и Канта, побить друг другу за это рожу, потому что один не понял, что другой имел в виду. А на светских мероприятиях что? «О, эта пришла, видала, в каких колготках? Идиотка, ей вообще нельзя это носить». И все закончилось. Тарталетки и это.
Говорят, что люди, как напьются, переходят на «ты меня уважаешь?», но ведь в 80 процентах случаев действительно уже в беспамятстве люди вдруг начинают говорить о русском космизме или о Гегеле с Кантом.
Шнуров: Так это же просто развернутое «ты меня уважаешь?».
Долецкая: Вот мы все время говорим — застолье, застолье. Тут нужно помнить, что все происходит именно за столом. В Европе на званом ужине — как? Подали закусочку, унесли, а закусочка — это три пера. И какая-то хрень. Потом горячее. И десерт — голимый крем с бисквитом. А русское застолье — бесконечно. Невозможно представить, чтобы на русском празднике закончилась водка. Потому что еще до того, как она закончилась, один уже побежал. Закуска — это вообще святое.
Шнуров: У нас был звукач, который попытался с нами ездить, но не смог. Говорил все время: «Что ж вы за люди такие. Я только руку протяну — не бери, это закусон. Еще раз протяну — не бери, это запивон». Он не пил. А кто не пьет, тот и не ест.
Есть такой стереотип: поминки в России тоже перерастают в это вот русское оголтелое веселье. Вы с этим согласны?
Шнуров: Это стереотип. Похорон, которые перерастают в праздник и в … [безумие], я, честно говоря, не видел ни разу. Да, возможно, где-то такое и случается. Но это точно нетипично. Не тот случай.
Долецкая: Это очень сильно зависит от семьи, от людей, которых приглашают. Если это делать действительно внимательно и ради того, чтобы люди как-то вместе еще раз поговорили просто ради памяти об этом человеке, то за столом могут вспомниться удивительные вещи. Это могут быть очень смешные истории. Но это застолье, связанное с одним-единственным ушедшим человеком. Это невероятно важная, пронзительная, эмоционально очень добрая часть ритуала по отношению к тем, кому совсем плохо в этот день.
Шнуров: Но это другое. Это совсем другое. Праздника в этом точно нет. Я бы точно увидел, если бы это было так.
А чем, по-вашему, праздник отличается от пьянки?
Шнуров: Пьянка, в принципе, может стать праздником. Бывает не Новый год, а просто рядовая пьянка, а бывает пьянка, которая в сто раз круче Нового года. Просто так сложились обстоятельства.
Долецкая: В этом и есть волшебство, когда ты не знаешь, как все закрутится и до чего досидится.
Вардишвили: Именно поэтому я за то, чтобы все происходило спонтанно.
Шнуров: Мне кажется, любые рецепты тут не годятся. Надо возлагать надежды, не надо возлагать надежды. Будет оливье, не будет оливье. Это все не гарантирует тебе праздника. Почему русский человек так любит рыбалку? Нет гарантий. Ты закидываешь удочку — и все. А дальше как повезет, как пойдет.

Вот ведь даже драка — это не всегда плохо во время застолья.
Шнуров: Драка, когда она без убийства, это вообще прекрасно.
Долецкая: Да, я тоже так считаю. Драка — это почти как секс. Это тактильная драма. Потом ведь есть еще стадия покаяния. Ты меня прости Христа ради, как я тебе такое вообще мог сказать. Да нет, это ты прости.
То, о чем мы сегодня говорим, — это же очень русская история. Национальная. А мы же все время хотим, чтобы у нас было как в Европе.
Долецкая: Кто хочет? Я не хочу. Это же то уникальное. То, что только у нас есть. Не зря же в Нью-Йорке появился ресторан «Самовар», где Бродский и Барышников сидели. Там вообще ничего нет, но они туда приходили, чтобы сесть так же, как здесь.
Шнуров: Они симулировали, конечно. Этого не сделать нигде в другом месте.
Да, но это веселье — это же дикость, по сути. С которой мы пытаемся бороться.
Шнуров: Ты сейчас говоришь о поколении хипстеров, которые пытаются сделать вид, что они живут не в России. А им никуда не деться. Потому что вот это как раз маскарад. Нет лучше саундтрека, когда ты едешь по проселочной дороге, чем Алена Апина. Никакой бритпоп, на хрен, или другая … [фигня] с ней не сравнится. Да и потом — группа «Комбинация», вы послушайте ее внимательно, у нее великолепные аранжировки, они сыграны, русская попса — это удивительно уникальное явление, просто к ней никто не подходит так. Все почему-то фикают, а это уникальный продукт, буквально как ракета «Булава».
А я вам поэтому и говорила про попсу и «Голубой огонек» в самом начале. Это про то же. То есть какой у нас путь — расслабиться и принять свои корни?
Шнуров: Ну не то чтобы расслабиться. Просто не нужно надевать чужое. Тот же самый Пушкин во французском платье никогда не говорил «фи» вот этому всему происходящему, окружающей действительности.
Я русский — и это многое объясняет.
Долецкая: Ну типа того.
Вардишвили: Мы часто уезжали с друзьями отмечать Новый год за границу, и все равно все заканчивалось салатами и застольем.
Шнуров: Я позапрошлый год отмечал в Италии, … [напился], мы с другом катались по полу в гостинице, возиться стали, как дети. Наши жены в офигении смотрели на все происходящее. Потом мы пришли в номер, и там, слава богу, был Первый канал. Как было … [хорошо], когда заиграла песня: «Подожди, дожди, дожди». Это и есть мы.
Мы так с вами сейчас выведем формулу патриотизма через русский праздник. То, что ты готов любить на самом деле. То, что есть ты и твои родители. То, с чем ты, положа руку на сердце, готов ассоциироваться.
Долецкая: Я вдруг поняла, что моя книжка «Воскресные обеды» — об этом. Ведь очень многое сейчас посыпалось. Но Сережа прав: не нужно ехать по старокалужской проселочной дороге и слушать бритпоп. Потому что Иван, не помнящий родства, — это чудовищная история. Наши застолья, наши традиции — они удивительны. Ведь это же все не просто про напиться. А про разговоры. После этого утром ты просыпаешься и, даже если не помнишь деталей, думаешь: как хорошо.
Шнуров: Фейсбук убивает русское застолье.
Долецкая: Я согласна с тобой.
Шнуров: Уже обо всем поговорили, поругались, помирились, и еще, сука, фейсбук все помнит. Иди — перечитывай. Русская пьянка, она же как музыка: состоялся фрагмент — все, он больше никогда не повторится. А в фейсбуке ты можешь ко всему вернуться. Перечитать, выждать, ответить. Там не то что магия рушится, там весь тот задор пьяный, который мог бы состояться при личной встрече, весь израсходован в пшик. На пьянке все происходит открыто. У тебя есть увертюра, есть кульминация, главный герой вдруг появился на этой пьянке. Это большой русский балет. Иногда хоккей.
Так и что — фейсбук победит русское застолье?
Долецкая: Нет. Застолье, конечно, останется.
Вардишвили: Задолго до появления сидра, очень задолго, мы просто мешали пиво с яблочным сиропом, чтобы продолжить пить на третий день под песни группы «Ленинград». И это ничем нельзя было остановить. Ни отсутствием денег…
Шнуров: Ну это известный факт, что деньги для пьянки не нужны.
Долецкая: Они всегда находятся. Это фантастика совершенно.
Шнуров: Ну и потом, есть надежда, что отключат электричество. Фейсбук — это простая … [фигня], достаточно отключить электричество — и его нет. А русской пьянке ничего помешать не сможет. Не знаю, что нужно отключить, чтобы ее не было.