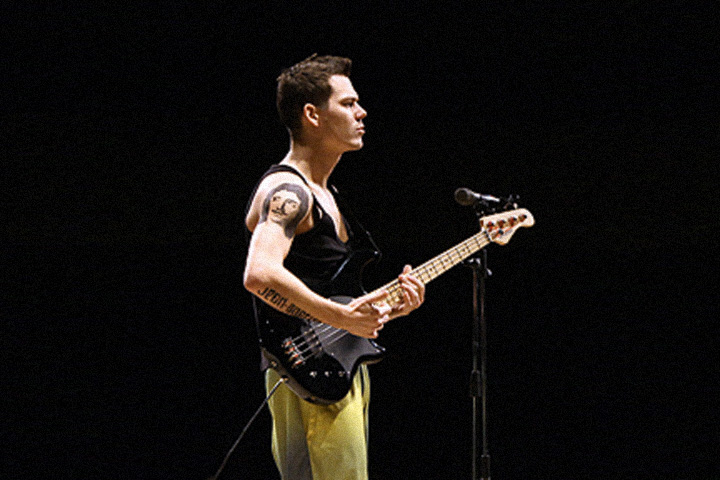Как Кирилл Серебренников стал главным человеком в современном театре?
За последние 15 лет режиссер Кирилл Серебренников успел побыть лоялистом и оппозиционером, поработать в кино и в Европе и вообще превратиться в самую скандальную фигуру русского театра. Елена Ванина разобралась в том, кем является Серебренников на деле и как он работает.

Кирилл Серебренников успевает везде: и в «Гоголь-центре», и в «Платформе», и в Берлинской опере, и в кино — потому, видимо, с ним новая московская театральная жизнь и ассоциируется в первую очередь
«Ребята, тупо бережем голоса. Поем, когда надо петь, и даже не говорим, когда это не нужно. Вы не представляете, что сейчас начнется», — очень спокойно обращается к рассыпанным по сцене актерам своего театра Кирилл Серебренников. Меньше чем через сутки должна состояться премьера его нового музыкального спектакля «Пробуждение весны», открывающего новый сезон в «Гоголь-центре». Серебренников собирает сложную, как часовой механизм, постановку по частям и сам не представляет, что именно скоро начнется. Через несколько часов Серебренников посмотрит генпрогон и отменит сразу два премьерных показа подряд. В день, когда гости все-таки соберутся в зале, посередине музыкального номера звукоинженер оборвет ногой провод — и актеры останутся один на один со своими голосами. Звук кое-как восстановят, но он на протяжении всего спектакля будет потрескивать и звенеть совсем не там, где требуется. Казалось бы, самое время выключить телефон, сесть в машину и сбежать куда-нибудь в лес. Вместо этого Кирилл Семенович Серебренников напишет в своем фейсбуке: «Счастливым я себя чувствовал в последние месяцы несколько раз — один из них был вчера, 8 октября 2013 года».
Правильный мальчик, сын известного на весь Ростов-на-Дону хирурга и учительницы русского языка, Серебренников в детстве меньше всего походил на хулигана: золотая медаль в физматшколе, примерное поведение, первый спектакль по собственной пьесе про Фридриха Энгельса. «У меня семья типичная советская. Родители говорили, что нужно быть комсомольским активистом, и прививали мне общественный темперамент», — рассказывает Серебренников, сидя в недавно отстроенном кабинете в «Гоголь-центре»: огромные окна, куча света и почти никакой мебели — только стол, пара стульев и резной комод с библейскими барельефами. Больше ничего и не нужно: после того как Серебренников взялся руководить обновленным театром на улице Казакова, его дни расписаны по минутам — лекция, съемка обложки, интервью, прямой эфир, репетиция, встреча. И так до бесконечности. «Я вот эти очки надену? Ни один визажист не замажет моих кругов под глазами после недели репетиций», — говорит Серебренников фотографу. При этом кажется, что его энергию можно упаковать в железные баночки и продавать сонным офисным работникам.
К советской идеологии Серебренников охладел довольно быстро, как только в СССР хлынули книги и фильмы, в которых жизнь была совсем другой — свободной, скандальной, сложной и очень разной. «Cовок тогда был в совсем уж уродливом виде: бесконечные очереди повсюду, серость, маразм. Папа меня иногда посылал в магазины к теткам, которые выдавали из-под полы консервы сайры или горбуши. Самому ему ходить было стыдно. Это был великий блат: все профессора, вся интеллигенция пресмыкалась перед простой теткой, которая выдавала дефицитные консервы», — вспоминает Серебренников. Этот опыт несправедливой и убогой позднесоветской жизни повлиял на Серебренникова сильно — о том, что такое система, тоталитаризм и внутренняя несвобода, он, повзрослев, будет говорить постоянно.
Родители регулярно возили Кирилла в Москву — специально на Любимова. Режиссера только что лишили советского гражданства и выдворили из СССР за интервью журналу Time, но спектакли на Таганке продолжали идти. Сидя в этом зале, школьник Кирилл Серебренников понял, что театр может быть оружием прямого действия, и решил, что нашел профессию. Друг семьи, гениальный режиссер Анатолий Васильев, с дочкой которого Серебренников всю школу просидел за одной партой, его неожиданно отговорил: «Анатолий Александрович Васильев сказал, чтобы я шел сначала учиться в какое-нибудь другое место, а потом уже, если не передумаю, приходил в театр. То есть он меня поселил в свою матрицу — Васильев же тоже сначала закончил химфак. Но я понял, что не могу ждать 5 лет, и организовал студенческий театр». Труппа появилась на физическом факультете Ростовского государственного университета, который, как и школу, Серебренников закончил с отличием. В театре он с самого начала выбрал другой путь: «Первая постановка, которую я там сделал, была уже каким-то смешным безобразием — это был Хармс, зрителей поливали кефиром, по сцене ходили голые женщины». Чуть позже в спектакле ростовского ТЮЗа «Городок в табакерке» он, по мнению руководства, слишком буквально проиллюстрировал художественный образ. В тексте говорилось что-то вроде — молоточки бьют колокольчиков, а те сладостно поют. Что происходило на сцене? Туда выходили актеры в костюмах молоточков и стегали плетьми актеров-колокольчиков. Режиссера обвинили в пропаганде садомазохизма; постановку закрыли. В Ростове такой театр вообще был непонятен почти никому, и работу Серебренникову предлагали в основном на телевидении — он снимал документальное кино, рекламу, передачи. Через несколько лет его заметили в Москве — вручили ТЭФИ и позвали работать на «Авторское телевидение».
Серебренников появился в Москве конца 90-х в мохнатой шубе и ярких джинсах. Он громко говорил, смеялся, не делал многозначительных пауз и на фоне других режиссеров выделялся, как цветная фотография среди черно-белых. Уже за одно это его многие окрестили поверхностным и провинциальным. «Я приехал в Москву, все нужно было начинать заново, с нуля. По Ростову же так не походишь, могут и в пятак дать — типа не по-пацански. А здесь — в столице — можно было и в дурацкой шубе появиться», — смеется Серебренников. Он остался в Москве, снова снимал рекламу и работал на телевидении, а о театре даже не думал, пока кто-то не предложил ему поставить читки на фестивале «Любимовка». Драматург Алексей Казанцев, увидев работу Серебренникова, тут же позвал его на свою площадку ставить чуть ли не самую сложную на тот момент современную русскую пьесу — «Пластилин» Василия Сигарева.
«Казанцев давал полную свободу режиссеру. Он просто спрашивал: «Ребята, что вам нужно? Сейчас все будет». Режиссер сам выбирал актеров, декорации, все. На тот момент такого не было вообще нигде», — рассказывает Людмила Цишковская, которая тогда была директором Центра драматургии и режиссуры, где рулил Казанцев. То была первая попытка пустить на московскую сцену новых людей. «У молодых актеров тогда не было перспективы как-то состояться, у режиссеров — тем более, — вспоминает Серебренников. — Это сейчас все бегают за молодыми режиссерами: «Ах, сделай что-нибудь, пожалуйста». Тогда все было медленно, степенно. Традиции. У руля было поколение, которому сейчас, наверное, 80 лет и больше. Молодые были в подполье, и такое место, где возились с молодежью, во всей Москве было одно». На предложение Казанцева он, впрочем, согласился не сразу. Как поставить пьесу Сигарева об одиночестве четырнадцатилетнего хрупкого мальчика, отвергнутого сверстниками и изнасилованного вначале собственной матерью, а затем уличными подонками, не понимал никто. До Серебренникова от этой постановки отказались семь режиссеров. Не в последнюю очередь именно из-за этого он все-таки взялся.
На первых показах зрители, хлопая дверями, заявляли: «Ноги моей здесь больше не будет». Серебренников на глазах у московской публики создавал новый театральный язык — жесткий, точный, местами шокирующий, а главное — очень похожий на жизнь. Еще до премьеры выяснилось, что «Пластилином» заинтересовался не один Алексей Казанцев. «Я уже несколько месяцев занимался кастингом пьесы, и вдруг раздается звонок: «Здравствуйте, это Олег Павлович Табаков, киноартист». Я, конечно, обалдел, — рассказывает Серебренников. — А тот продолжает: «У меня есть пьеса «Пластилин», и я хочу, чтобы вы ее поставили у нас». Я отвечаю: «Олег Павлович, я не могу, я уже дал слово ставить ее в другом театре». «Вы, может быть, не понимаете, вам звонит Олег Павлович Табаков, народный артист Советского Союза». — «Олег Павлович, я все понимаю, но дело в том, что я два месяца занимаюсь кастингом, я набрал артистов, и я считаю, что только они могут это играть». В общем, мы тогда разошлись. Он обиделся — как этот псих не пошел в МХТ?»
Сейчас представить себе театральную Москву без Серебренникова так же сложно, как съесть бутерброд без хлеба. За пятнадцать лет он превратился в поп-звезду от театра. Ставил на главных московских площадках и в подвалах, устраивал независимые фестивали и мелькал на обложках глянцевых журналов, ходил в Кремль и на оппозиционные митинги. Его восхваляли и проклинали примерно в одинаковой степени. Одни говорили, что он надежда русского театра. Другие — что тотальное зло, убийца великих традиций, безбожник и конъюнктурщик. Его спектакли, как медицинский молоточек, то и дело били зрителя по коленкам, проверяя, сработают рефлексы или нет. Раз за разом, как Ларс фон Триер в кино, Серебренников проверял публику на прочность.
«Серебренникову всегда очень важно растормошить публику, заставить ее думать, заставить разобраться в сложных политических и психологических ситуациях. И вне зависимости от материала — будь то «Господа Головлевы» или «Голая пионерка», — но он всегда пытается говорить о драматизме и трагизме русской истории. И порой говорит он об этом очень жестко», — рассказывает театровед Наталья Пивоварова. Она наблюдала за Серебренниковым с самого момента его появления в Москве. Кирилл, говорит Пивоварова, был чуть ли не первым, кто заговорил со зрителем о том, что его окружает: о нищете, насилии, политике, ужасах тоталитарной системы, безразличии, гомосексуализме, подавлении человека. Именно это, а вовсе не его чересчур новаторский язык, вызвало у части публики столько злости. «Меня до сих пор продолжают спрашивать: у вас в спектаклях актеры носят современную одежду, а что это значит? Все это осовременивание пьес, зачем это нужно? Я уже даже не знаю, что ответить, потому что все это какой-то позапрошлогодний снег. Еще во времена Шекспира осовременивали пьесы — играли на сценах в платьях своей эпохи, а не в «исторических костюмах». И никого это не смущало», — говорит Серебренников и устало улыбается. И так всю дорогу: еще в 2006 году в «Школе злословия» Авдотья Смирнова всерьез расспрашивала его, нельзя ли сделать «Лес» Островского без героев в джинсах и кожаных куртках. Серебренников раз за разом отвечал, что ему хочется, чтобы театр говорил не про «абстрактных них», а про «конкретных нас», что кринолины не делают постановку более классической, а парик не более драматичен, чем бритая голова.
Чем более структурированным становился его метод, тем больше летело обвинений в его адрес. «Те, кто видит и понимает логику серебренниковского языка, не скажут, что он гонится за дешевыми трюками, а поймут их логику. Можно ведь увидеть только мешок с грязным бельем (как в «Головлевых»), а можно метафизическую идею о том, что остается от человека, кроме мешка с серой одеждой», — Наталья Пивоварова оспаривает мысль о том, что Серебренников не больше чем конъюнктурщик. «Мы же на самом деле страшно консервативны, и за этой консервативностью, которую у нас принято называть «традиционность», люди прячутся от изменений, которых они боятся. Потому что изменения требуют ответственности, воли, сил и бесстрашного действия. Всего того, что у нас не в чести. А я всего лишь считал, что театр должен говорить о том же, о чем мы говорим в постели, на кухне. О том, о чем мы можем только мечтать; о чем даже стыдно сказать; о том, что нас по-настоящему волнует», — говорит Серебренников.
Олег Павлович Табаков не просто позвонил Кириллу Серебренникову еще раз. Он сделал так, что МХТ на долгое время стал для Серебренникова основной площадкой. Правда, после того как герои пьесы «Изображая жертву» со сцены главного московского театра проорали зрителям в лицо что-то вроде: «… … … … … … …», проклятия понеслись не только в адрес молодого режиссера, но и в адрес мэтра. «Как это — во МХАТе мат! Это же разрушение скреп духовных! — восклицает Серебренников делано театральным голосом. — Я видел, как Табаков колебался: выпускать или не выпускать «Изображая жертву». Он не понимал, что с этим делать. Но выпустил. Вообще, главная черта Табакова — это невероятная толерантность. Когда я снимал о нем документальный фильм, я узнал очень важную историю о том, как он в детстве увидел, как гонят пленных немцев. И его бабушка вдруг дала ему картошку и сказала: «Иди, отнеси им». Он не понимал — как? Зачем? Это же враги. А бабушка сказала: «Неси, потом поймешь». И в итоге в нем нет ни антисемитизма, ни ксенофобии, ни гомофобии». Табаков о том, почему он позвал Серебренникова в МХТ, говорит нехотя: «Что же я должен — хвалить самого себя? Или свои селекционные способности? Или свою заботу об обновлении молодой поросли русского театра? Я не занимаюсь такими вещами. Я всерьез считаю Кирилла Серебренникова одаренным, серьезным человеком. Вот и все».
В 2010 году стало известно, что Серебренников собирается поставить на сцене МХТ роман «Околоноля», авторство которого приписывали Владиславу Суркову. Еще до премьеры в Серебренникова плевались даже те, кто хвалил его предыдущие постановки: «Серебренников продался», «Серебренников взял денег у Суркова». Серебренников на это отвечает кратко: «Пусть посмотрят спектакль», — его «Околоноля» получился сюжетом не о продажности чиновника ельцинских времен, а о порочности власти в целом, о том, как она уродует человека, превращая его в собственную марионетку. На общественное мнение это, конечно, повлияло мало. Берешь деньги у государства, значит — враг. Впрочем, самого Серебренникова такая реакция, похоже, только дополнительно заводит.
«Маша, понимаешь, так бывает, что родители злятся и мы не понимаем, из-за чего это может быть, но чувствуем эту злость на животном уровне. Вот так же ты должна от нее отшатнуться. Попробуй», — нежно и почти по-отечески говорит Серебренников молодой актрисе Марии Селезневой, завернутой в одеяло, как в кокон. Селезнева играет главную роль в спектакле «Пробуждение весны», и сейчас идет прогон одной из ключевых сцен. До премьеры времени почти нет, но Серебренников ни разу не срывается на крик. Спокойно, с какой-то хирургической точностью он дает советы поочередно актерам, осветителям, звуковикам. Каждый второй, с кем говоришь о Серебренникове, обязательно вспоминает о его особом мастерстве работы с актерами. Неважно, студент это или Чулпан Хаматова, — со всеми он как-то по-особенному договаривается. В 2008 году Серебренникову предложили набрать курс в Школе-студии МХАТ, и он согласился, предварительно уточнив, что учиться его студенты будут по экспериментальной системе. Теперь почти все студенты играют у него в «Гоголь-центре».
«Я сразу почувствовал, что Кирилл Серебренников — мой чувак. Спектаклей его я не смотрел, но я видел, что он сидит в очках и кепаре и явно мне ближе, чем другие, — рассказывает Никита Кукушкин, один из самых талантливых студентов и теперь актеров труппы Серебренникова, похожий одновременно на князя Мышкина и Парфена Рогожина. — Мы не знали, как на сцену выйти. Говорили такие друг другу: «Давай, ударь меня по лицу, бей меня. Класс, я зарядился». Но я уже на первом курсе как-то почувствовал, что у нас будет театр». После многих лет работы на чужих театральных площадках Серебренникову, очевидно, хотелось иметь собственную — и начал он с того, что вырастил себе труппу. «Первые полтора года мы с ними молчали. Мне кажется, это принципиально для русских, которые так любят поговорить. У нас ведь как? На первом курсе уже «Гамлета» ставят. Я сказал, у нас никакого «Гамлета» не будет. Мы будем заниматься телесным языком», — рассказывает Серебренников. «Мы встретились на первом занятии, и Кирилл Семенович сказал: «Пишите в одном столбике 30 раз слово «тело», а в параллельном через слеш — огонь, вода, победа, страх, ненависть, боль. Каждый выбирает себе одну пару и через две недели показывает мне пластический этюд на эту тему. Мы вообще ничего не понимали», — добавляет Кукушкин и смеется. Серебренников приглашал к ним западных педагогов, заставлял писать современные оперы, гнал на улицы — наблюдать за людьми и собирать фактуру. «Кирилл Семенович всегда говорил, что он хочет, чтобы мы впитывали ту информацию, которая нас окружает. Мы учились вербатиму. Разговаривали с простыми людьми. У меня была продавщица, которая продавала женское белье. Я как раз попала к ней, когда ее собирались увольнять, и она напилась с подругой. Они мне выложили всю жизнь», — рассказывает еще одна серебренниковская экс-студентка Саша Ревенко. Этот курс стал самым мощным серебренниковским экспериментом до преобразования Театра Гоголя. Не имеющий профессионального театрального образования режиссер сумел вырастить актеров, которые оказались чуть ли не на голову выше всех вокруг.
Выпускным спектаклем курса были «Отморозки» по мотивам повести Захара Прилепина «Санькя». «Я не говорил им — эти парни хорошие, а эти плохие. А сказал только — идите и сами разбирайтесь. И они месяц ходили к нашистам, к фашистам, к антифа, к энбэпэшникам запрещенным, везде. Они брали интервью, залезали в эти организации, общались. И потом я увидел, что у них появилась своя позиция, мне понравилось, что эти герои не показались им ни однозначно ужасными, ни однозначно прекрасными. Мы стали говорить о сложности любого человека. А это и есть для меня концепция свободы. Свобода — это сложность», — вспоминает Серебренников. Никто не мог предположить, насколько скоро этот спектакль будет звучать даже чересчур актуально. Меньше чем через полгода, когда актеры на сцене кричали: «Президента — топить в Волге» — и прорывали кордоны ОМОНа, на Болотной площади происходило примерно то же самое. Театр стал болезненно напоминать реальность. На этом спектакле стало, пожалуй, очевидно, что чуть ли не главное достоинство художника Серебренникова — в этом самом умении нащупать нерв времени.
Важно понимать: о спектаклях самого известного современного режиссера в стране говорили на порядок больше людей, чем их видели. «Серебренников для всех» появился в тот момент, когда он обратился к кинематографу. Кино было его детской мечтой — Серебренников и на ростовское телевидение пошел работать только для того, чтобы быть ближе к киноиндустрии: «Мне нравилось снимать, но в Ростове не было никакого кино. А во ВГИК меня не взяли». Реализация детской мечты вызвала куда больше вопросов, чем театр, который, кажется, из Серебренникова пер сам. «Для меня многолетняя загадка, почему Серебренников — легкий, техничный, виртуозный, умный и со всех сторон замечательный в театре — в кино превращается в такого неповоротливого, манерного и не очень интересного провинциала. Фильм «Изображая жертву» еще работал в основном на метауровне, но дальше, по-моему, стало совсем грустно, — говорит кинокритик и сценарист Роман Волобуев. — Хотя кино, даже маленькое, гораздо более коллективная и индустриальная вещь, чем театр. Рельсы, реквизиторы — и одна лампочка неправильная может все в страшную пошлятину превратить. Не исключено, что родись он в Англии, его звали бы Сэмом Мендесом — и сейчас он бы уже снимал про Джеймса Бонда».

Серебренников снимал кино и как-то заметно скучал: в интервью говорил, что в театре достиг потолка и, возможно, стоит взять паузу. Он сделал фестиваль «Территория» и мультимедийную площадку «Платформа», получил «Золотую маску», поставил оперу. Он повзрослел, но его продолжали считать молодым, скандальным и модным. В каком-то смысле это и правда был потолок. У Серебренникова не было только своего театра. И тут на помощь пришло правительство Москвы.
О том, что было дальше, знают все. Нового худрука Театра Гоголя называли извращенцем и тлей. Против него писали открытые письма и выходили на митинги. Серебренников послушно ходил на заседания Мосгордумы и выслушивал обвинения. «Мы понимали, что Театр Гоголя находится в печальном состоянии, и стали думать, кто мог бы мог его возглавить, — рассказывает предысторию руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков.— Исходили из той логики, что если в Москве только в нашем подчинении 86 театров, то хотя бы один скандальный и экспериментальный театр город может себе позволить». Впрочем, даже московская власть не до конца понимала, что может не понравиться московской власти. Внезапно Серебренниковым заинтересовался Следственный комитет — спектакль «Человек-подушка», вышедший в МХТ аж семь лет назад, неожиданно решили проверить на предмет педофилии. Впрочем, это никого не остановило: пока в Госдуме принимали закон о запрете гей-пропаганды, актеры Серебренникова пели со сцены о гомосексуальной любви. Собственно, и основная ценность нынешнего «Гоголь-центра», пожалуй, в том, что здесь изо всех сил пытаются говорить о том же, о чем поют песни в соседнем шалмане, из-за чего дерутся в соседней подворотне, и о том, о чем стальным тоном вещает из телевизора квартиры в доме напротив ведущая Екатерина Андреева. О том, о чем даже стыдно сказать; о том, что нас по-настоящему волнует.
Сидя в машине, которая везет его из «Гоголь-центра», где он ставит спектакль, на «Мосфильм», где у него прямой эфир, Серебренников ждет, пока по улице пробежит Дима Билан с олимпийским огнем. «У России сегодня образ пещерного места. Мне это страшно не нравится. Мне кажется важным вести себя так, чтобы нормальные люди из других стран смотрели на нас и говорили: «Смотрите, там есть какие-то свободные и вменяемые люди. Там не все рабы, придурки и мракобесы, — говорит он, дожидаясь, пока полицейский получит по рации разрешение пропустить через пустую улицу его и бабушку, которая уже час не может попасть домой. — Мы должны заниматься контрпропагандой. И я ничего не боюсь, потому что мы точно не нарушаем никаких законов. Если кто и нарушает законы, то только они».