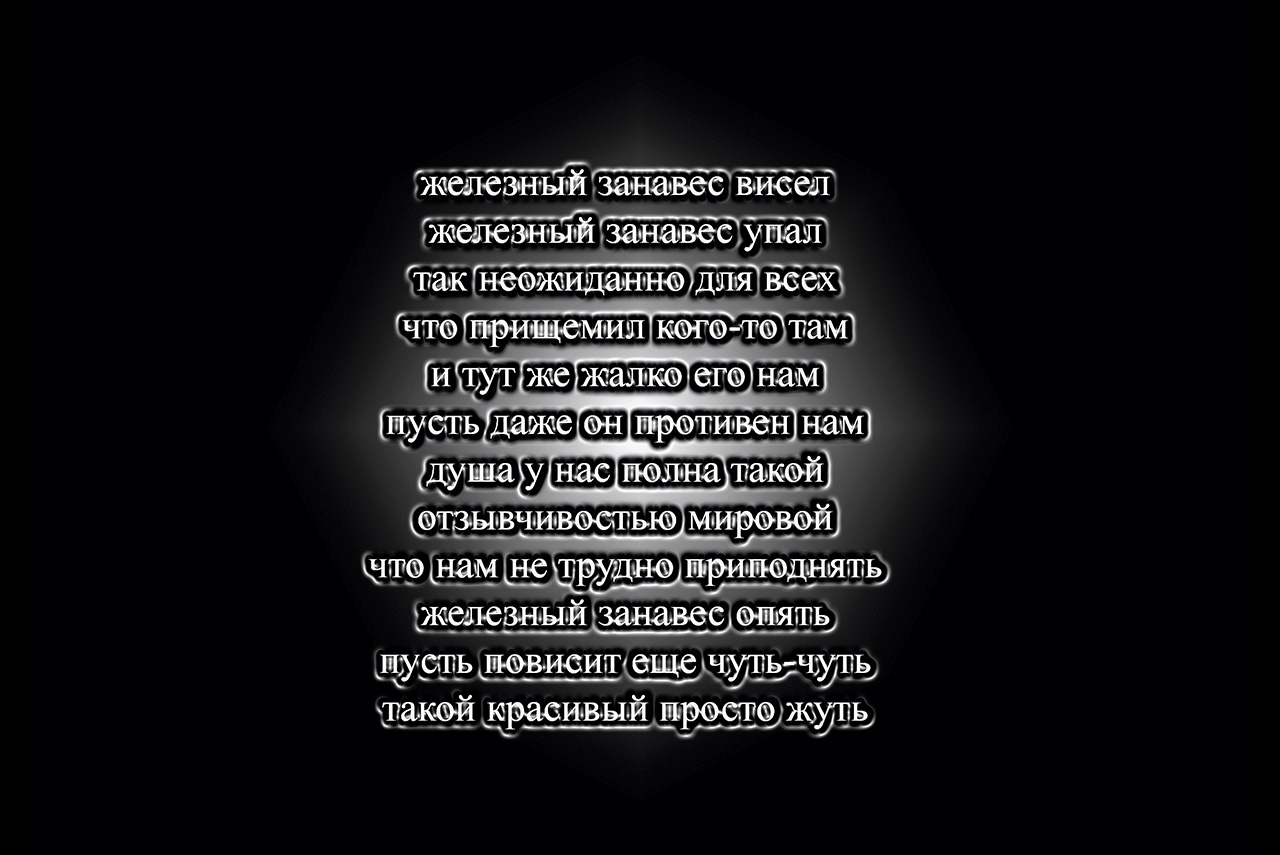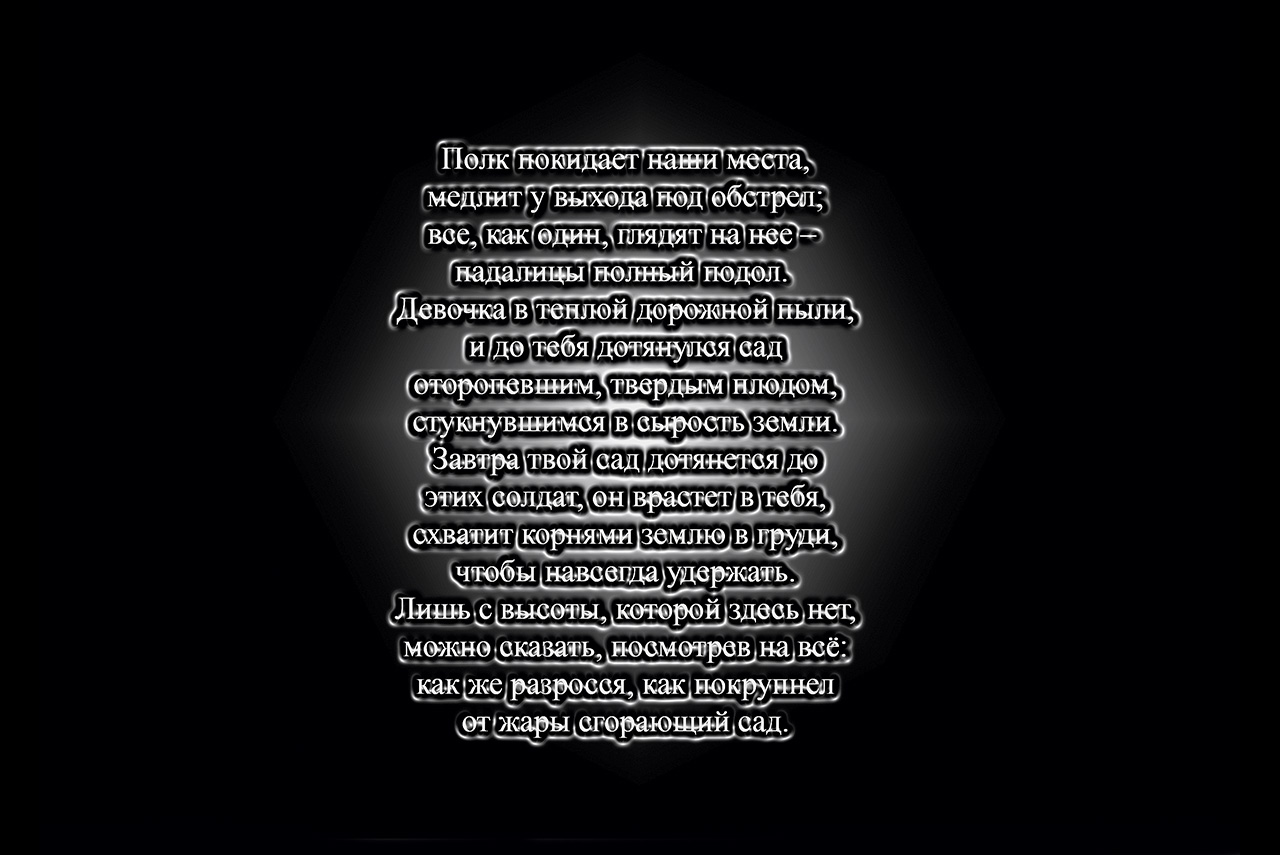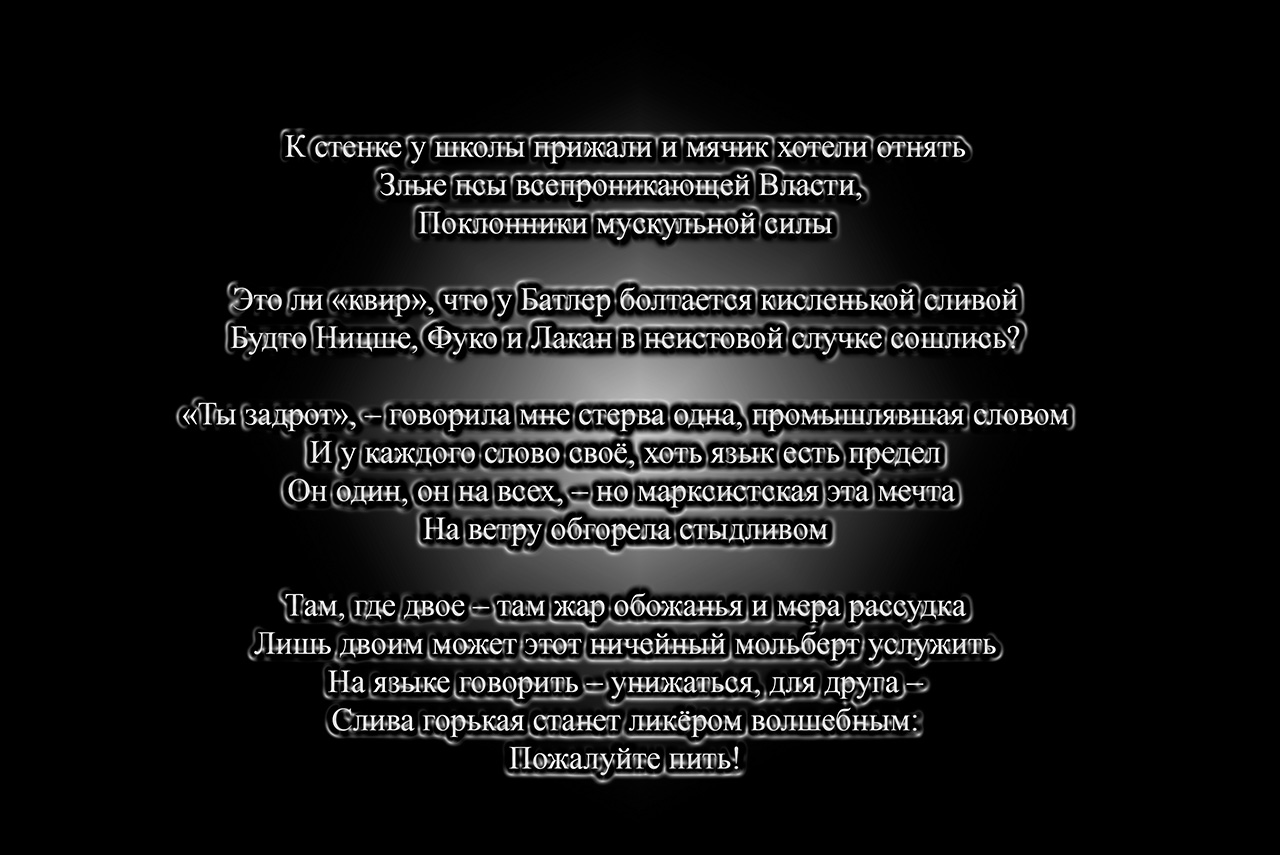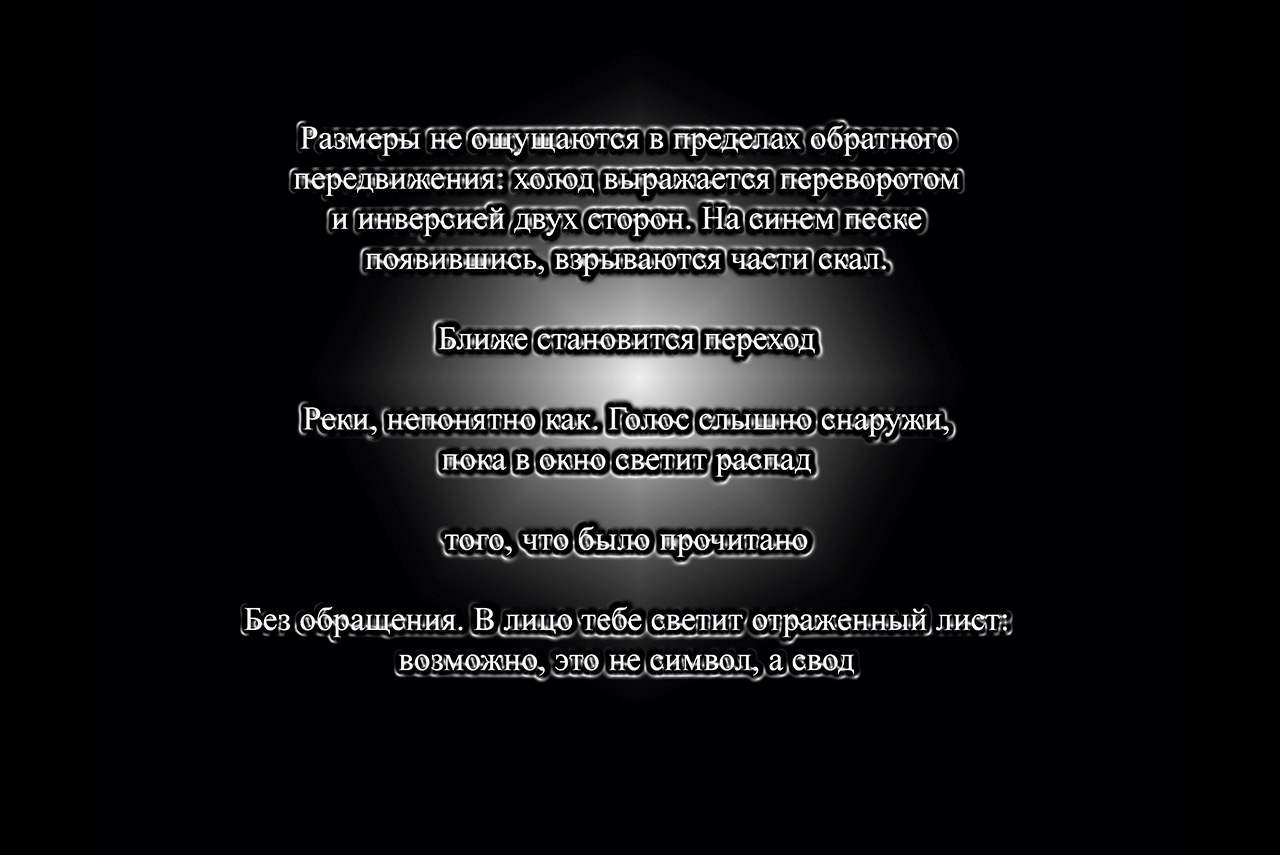Сибирский постпанк
За пару десятков месяцев в Сибири внезапно возникло с десяток групп с одинаковыми вводными данными: тревожный постпанк и русский язык. «Афиша» съездила в Новосибирск, встретилась с группами «Сруб», Ploho, «Звезды» и «Бумажные тигры», и досконально изучила феномен русского постпанка.

Одно из первых воспоминаний Игоря Шапранского, лидера новосибирской группы «Сруб», — встреча с домовым. «Мне было года где-то три, я спал и вдруг чувствую: по мне кто-то начинает интенсивно прыгать. А никаких домашних животных у нас не было. Поворачиваюсь — какая-то хрень с мохнатыми длинными руками по мне скачет. Я заорал, вбежала мама и вроде как увидела, как эта штука убегала в настенный ковер». Почему решили, что это был именно домовой? «Меня повели к какому-то психологу, я нарисовал ему то, что видел. Он и говорит: «А, так это же домовой был».
Мы разговариваем об этом уже в сегодняшнем Новосибирске; на современность указывает меню дайнера на столе. Находимся мы при этом практически в гигантской матрешке: в похожей форме выполнен один из недавно построенных в центре города небоскребов, и американский дайнер расположился где-то на ее поясе. В меню схожий контраст: вроде как фиш-энд-чипс, но на деле вместо хрустящей панировки — пропитанное сливочным маслом тесто, как у беляша. И группу «Сруб» тоже можно описать в контрастах: звук английского постпанка тут оборачивает рассказы про полынь, чертоги, болота и пляс смерти с косою по утренней росе. В ноябре они выпускают альбом «Топь» — и при всем западническом подходе к звучанию это монументальное высказывание о русских лесах. Как Линч в «Твин Пиксе» смог точно передать потустороннее ощущение средней полосы Америки, так и Шапранский в «Срубе» упаковывает в простую и доступную форму жуть сибирских лесов.
Сам Игорь при этом не производит впечатление почвенника — обычный, в общем-то, городской житель; славянский лексикон и раскатистый голос оставляет только для сцены и студии. Впрочем, когда речь заходит о даче Шапранского, «Сруб» подступается ближе: «Она с трех сторон окружена лесом. С одной стороны бор, еще с двух смешанный лес. Если немножко совсем пройти, буквально часок, можно дойти до места, где скальная порода выходит на поверхность, над ней бор — и с этого обрыва видно деревенскую целину. По вечерам река заворачивает над ней туман, и ты стоишь наверху утеса, видишь эти скалы».
Идея заиграть постпанк на русском родилась там же, а вдохновила ростовская группа «Утро», четыре года назад выпустившая альбом — посвящение подпольной советской рок-музыке и той же славянской хтони. Пару лет назад Игорь с братом ходил по тем местам к ближайшему ларьку за сигаретами: «Мы шли по туманному мрачному полю. С одной стороны горел огонь, с другой туман обволакивал поля, а у меня с телефона играла песня «И всюду запах затухших свечей», и среди вот этого туманного поля брат увидел фигуру высокой женщины с длинными волосами, с коромыслом. И ему показалось, что это смерть. А потом мы дошли до ларька — и оказалось, что он сгорел». Музыка, в общем, удачно легла на приключения. «Это уникальная какая-то атмосфера, которую я не слышал в русской музыке. Она идеально сочетается как раз вот с такими моментами, с такими картинами, которые можно видеть в сибирском загороде, в сибирских лесах».
Около трех десятков лет назад в этих местах зародился сибирский панк — в частности, дача Шапранского расположена в паре километров от места, где утонула Янка. Сегодня же тут возникает сибирский постпанк — и «Сруб» на самом деле лишь одна из десятка групп, одновременно за последние года два появившихся в Омске, Новосибирске, Томске, Кемерове и других близлежащих городах. «Сруб» при этом стоят немного особняком, у них больше земли и меньше воздуха. Нет остросоциальных тем, ни слова о политике, но политика почему-то сама их находит и откликается на каждую песню. От русских националистов, приходящих на концерты и зигующих в сторону сцены, до попытки поклонниками расшифровать «Сруб» как «Союз России, Украины и Белоруссии». «А я такой — не-е-е-е, я в шоке был от этой интерпретации, — открещивается Шапранский. — Но даже если ты вдали от политических тенденций, все равно они тебя как-то, видимо, коснутся».
Действительно, легко можно представить «Сруб» как любимую группу читателя сайта «Спутник и погром», да и слово «погром» им тоже подходит: новый альбом «Топь» будто погружает в атмосферу большого русского бунта; не мирной скромной Болотной, а какого-то надвигающегося хаоса, неконтролируемого и гарантированно деструктивного — воронки, в которую всех засосет. Шапранский среди вдохновивших его групп, разумеется, упоминает и «Калинов мост» (тоже, кстати, новосибирцев), и тут сразу вспоминаются другие их кратковременные последователи, «Алиса», ненадолго заразившиеся от Ревякина славянской хтонью на альбоме «Шабаш». «Шабаш» был написан в конце 1980-х и записан в 1990-м, и, слушая его сегодня, можно понять, что тогда Кинчев со товарищи дословно описали 1991 год, еще даже не представляя, что 1991 год вообще может когда-либо случиться. Конечно, не так страшен был развал СССР, как его предчувствие, вот и сегодня то, что транслирует «Сруб», пугает именно своей неопределенностью. Альбом можно поделить на две части: в первой нагнетание, во второй уже смирение с неизбежным. Взрыв же, момент этого самого хаоса запрятан в трехминутном, едва слышном эмбиенте в конце песни «Комета». «Ведь когда случается космический взрыв, происходит вакуумная тишина», — поясняет Шаранский.
Но дело, может, и в другом: просто пока «Сруб» роются в земле, о происходящем на ней больше рассказывают другие новые сибирские группы, более городские, более социальные — такие как Ploho. Тут уже вполне четкая и точечная трансляция недовольства из воздуха — название вполне самодостаточно, как и их самая первая песня, «Новостройки»: «Плохой живет высоко, хороший низко./Об этом плохо спел поэт на виниловом диске». Что такое Ploho, из песен группы понятно без лишних вопросов: их главная тема — это предательство всего того, за что в уже упомянутом 1991-м боролись. Все идеалы съел консюмеризм, все побежденное зло возвращается обратно, все понятия последних лет искажены: «Всех закроют при твоем содействии,/Демократия в действии».
Как и «Сруб», и все группы, которые будут упоминаться дальше, Ploho не могут точно сказать, почему решили заиграть именно постпанк и именно на русском. «Было актуально лет пять-шесть назад петь на английском, — говорит вокалист и гитарист Виктор, — и так много появилось таких групп, что просто уже тесно от них стало. И я сам всегда на английском пел. Захотелось попробовать спеть на русском — получилось так, что мне понравилось гораздо больше. Конечно, я слушал раньше и «Телевизор», и все подобное, ну и несколько лет запойно «Гражданскую оборону» и все проекты Летова — это тоже сказалось».
Вот и пришли наконец к Летову — дух его уже в самом термине «сибирский постпанк» чувствуется, и это все настолько же пост-Летов, насколько адаптация постпанка английского и американского. Какие-то параллели с Манчестером конца 1970-х, где оригинальный постпанк родился, присутствуют: Новосибирск тоже индустриальный город и тоже на пороге своего постиндустриального периода. И размашистая конструктивистская архитектура улиц вместе с затихающим производством наносит свой отпечаток. «Новосибирск же считается самым быстроразвивающимся городом России, — рассказывает Виктор, — но это за счет чего? Не потому, что здесь становится все здорово, а просто он быстро растет — и все. Растет с окраин, за счет быстрых новостроек, а на самом деле в городе ничего не происходит». Это все не повод заиграть ту же (или схожую) музыку, что родилась в Манчестере тех дней, — пусть та эстетика и оказалась близка, но наследства сибирского панка тут больше. «Возможно, это волны в культуре, — говорит второй участник Ploho, Андрей. — Возвращается перестроечная культура конца 1980-х — начала 1990-х, расцвет сибирского панка, андеграундной музыки из Омска, Новосибирска, Томска. И еще все устали от английского и снова стали петь на русском, вспоминать корни двадцатилетней давности».
В Новосибирске вскочили «Сруб», Ploho и «Буерак», а в Томске — «Бумажные тигры» и «Звезды», все это произошло за пару лет, и сейчас уже группы начинают друг о друге узнавать, объединяться и куда-то двигаться. Лидер Ploho Виктор организовывает в Новосибирске фестиваль Pustota, где почти всех перечисленных собирает. Фестиваль проходит в лофте Trava, не так далеко расположен ресторан Pomidor, похожими вывесками усыпаны все улицы города — и это ровно тот же консенсус западничества и славянофильства, который можно услышать в звучании сибирского постпанка. Славянофильство, впрочем, побеждает — это слышно и по «Срубу», и по томским «Звездам» и «Бумажным тиграм», еще совсем-совсем молодым, самой свежей крови всего этого течения.
Для «Звезд» это и вовсе первый выездной концерт, вместе с ними и «Тиграми» на автобусе из Томска 300-километровый путь проделали еще около 50 соратников-тусовщиков. Смешавшись с местными посетителями, они создали довольно внушительную толпу у сцены — лидер «Звезд» Гена едва сдерживает эйфорию и вспоминает один из первых концертов Летова (опять об Летова!), когда под впечатлением от теплого приема тот воодушевился и «записал пять альбомов»: «Я теперь после этого тоже пять альбомов запишу!»
С томичами обсуждать возникшую волну интереснее: для них это самая естественная вещь в мире, иначе и быть не могло. «То, что сейчас происходит, — я бы сказал, это что-то вроде второй волны сибирского панка», — говорит Гена из «Звезд». А вопросы про русский язык ему и вовсе непонятны: «Мне вообще всегда казалось абсурдным петь на английском языке в России. Язык — это не только слова, это цельный образ мышления. А в англоязычии я вижу странную боязнь своего и себя самих. Вот недавно прочитал пресс-релиз о концерте Tesla Boy в Тюмени, чуть не блеванул. Там пишут, что они всем своим видом показывают, что западные ценности все-таки России нужны, кто бы что ни говорил; дескать, выглядят как американцы и звучат как австралийцы. Но … [зачем]?! Это что, хорошо, что ли?!»
Почему же тогда русские играют прозападный постпанк? Потому: «Грусть является неотъемлемой частью творческого человека и неотъемлемой частью жанра постпанк. А в России… ну что тут еще играть, вы же видите все, что вокруг, — тут по-другому не получается».
Так или иначе, любой разговор сводится к тому факту, что мы находимся в России. И хоть «Сруб» и Ploho считают себя совсем разными, но они просто две полярности одного явления, и Шапранский даже косвенно, через отрицание, это подтверждает: «Ploho, они такие — индустриальный постпанк. Ближе к простому народу. То есть у нас душа, у них народ». Когда душа встречает народ и традицию 30-летней давности, тогда и получается этот самый сибирский постпанк. Еще один важный компонент — страх. Это самое часто встречающееся слово у «Сруба», это и причина, и следствие того смутного события, которое сибирский постпанк предвещает; страх же мешает это событие разглядеть и приблизить.
К слову о страхах — чем закончилась история с домовым? «Он лет до шести ко мне во сне потом приходил, и нужно было заорать, чтобы он убежал. Как-то снится мне этот сон, но по-другому — захожу на кухню, бабушка моет посуду, я говорю: «Бабушка, он идет, я его чувствую». Действительно — появляется, я на него дую, он убегает, но не как обычно, не в ту комнату, где ковер, а в ту, где телевизор. Я зашел, взял нож с зеленой ручкой со стола и запустил в него. Убил. И больше во сне он ко мне не приходил — я победил страх домового в себе».
Но, видимо, не до конца поборол: «Сруб» и весь сибирский постпанк — это попытка одолеть страх перед домовым, только в куда более сложной ситуации, когда непонятно, ни где тот ковер, под которым он прячется, ни как он выглядит и когда придет.